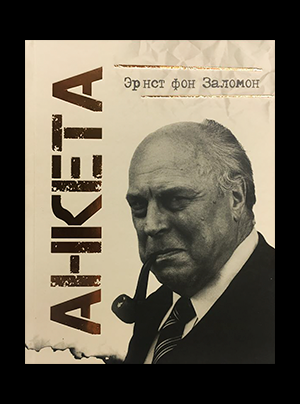— С какими произведениями связан ваш первый детский опыт чтения?
— Здесь я сталкиваюсь с двумя факторами: я начал читать довольно рано, с четырех лет, но я плохо помню себя в детстве. В общем и целом можно сказать, что у меня всегда был выше среднего интерес к поэзии.
— То есть ваши самые первые читательские впечатления связаны именно с поэзией?
— Да, это с самого раннего детства. Поэзия в основном классическая, с очень банальным набором имен — Пушкин, Лермонтов. И с тех пор у меня установились некоторые привычки. В частности, я как читатель не выношу неточные рифмы, поэтому современных стихов по преимуществу не читаю. Я обычно сканирую текст взглядом, и, если вижу, что рифма у стихов неточная, дальше не иду.
— Когда у вас возникла любовь к классике?
— Насколько я помню, в среднем школьном возрасте она уже присутствовала. Я учился во французской спецшколе и использовал, когда только мог, знание языка для чтения классической французской поэзии в оригинале.
— В какой университет вы поступили?
— На классическое отделение филологического факультета МГУ.
 Алексей (в середине) на защите диссертаций в МГУ 20 октября 2004 годаФото: librarius.narod.ru
Алексей (в середине) на защите диссертаций в МГУ 20 октября 2004 годаФото: librarius.narod.ru
— Чему была посвящена ваша первая студенческая научная работа?
— Если брать курсовую второго курса, которую можно считать первой квазинаучной работой, я сравнивал один и тот же текст из «Илиады» в переводе Гнедича и Жуковского.
— Как дальше развивалась ваша академическая карьера, если говорить не о квазинаучных, а о полноценных работах?
— В ней был большой перерыв. Я, в общем-то, активно публикующийся человек, недавно список моих работ превысил 200 пунктов, но до тридцати лет у меня практически не было публикаций.
— А с чем это связано?
— Я окончил университет в 1991 году. Это было довольно интересное время — голова кружилась, и не у меня у одного. Тогда я не пошел в аспирантуру, а занялся преподавательской деятельностью, которая мало способствовала научной. Да и зрелости не хватало, не было таких идей, которые стоило бы облекать в письменную форму и доносить до коллег. Я в общем-то и рад, что так сложилось. Если бы я попал в такую мясорубку, как сейчас, когда требуют пять публикаций в год, то, скорее всего, это были бы слабые публикации, которых мне сегодня пришлось бы стыдиться. Господь меня от этого стыда избавил.
— Чем вы занимались в аспирантуре?
— В аспирантуре моя работа была опять-таки посвящена стихотворному переводу, но на сей раз — с греческого языка на латинский. Я исследовал, как латинские поэты античности, в том числе и поздней, переводили греческую эпиграмму. И, кстати, очень доволен своей кандидатской. Там была осуществлена, на мой взгляд, достаточно сложная и серьезная реконструкция несуществующего в представлении коллег римского поэта Аниция Пробина. До моей работы за его подписью была одна эпиграмма. Я ему атрибутировал — надеюсь, достоверно — примерно два десятка.
— А под чьим научным руководством вы писали диссертацию?
— Моим научным руководителем был Александр Иосифович Зайцев. Я гордился, что он согласился со мной работать. Он и придумал для меня эту тему: памятник Epigrammata Bobiensia. Но, к сожалению, он не дожил до защиты. Это, безусловно, не только мое горе: это был очень большой человек, но для меня утрата стала еще и личной. И я очень жалею, что он не успел высказаться по сути моей атрибуции.
— Насколько я понимаю, в последнее время ваше научное внимание приковано не столько к классике, сколько к истории отечественного образования. Как получилось, что вы занялись этой темой?
— Собственно, классикой я занимался мало, и тому есть одна фундаментальная причина: у филолога-классика 90% энергии уходит на то, чтобы выяснить, а не подумал ли кто-нибудь до него его мысль. Это сравнительно хорошо известная область, где написано чрезвычайно много. Мне хотелось рыться в чем-то менее исследованном, и, кстати, сама классическая тема, которую мне подобрал Александр Иосифович, обладала этими достоинствами. Epigrammata Bobiensia — относительно мало исследованный памятник. И у моей кандидатской была более скудная библиография, чем у дипломной работы, хотя все, что можно было найти, — в том числе все, что можно было достать через друзей в западных библиотеках, — я изучил.
С «Историей русской школы» вышло более-менее случайно. В лицее, в котором я работал, затеяли издавать журнал. И, соответственно, потребовались исторические статьи по школе. Я стал их писать, и это постепенно превратилось в настоящую страсть. Но у большой книги об истории школы есть заказчик, известный предприниматель и меценат Константин Валерьевич Малофеев, и мое предложение заключалось в том, чтобы написать историю русской школы XVIII века, — что было мне особенно близко, по чему у меня уже были серьезные подготовительные материалы. Но он пожелал иметь историю школы до 1917 года — мы на этом и остановились.
— Вы сказали, что эта работа охватывает период с XVIII века до 1917 года...
— Там есть предисловие по русской школе XVII века, так что — с XVII века по 1917 год.
— А вам интересно было бы продолжить эту работу и написать о советском периоде?
— Нет, пусть этим занимается кто-нибудь другой.
— Существует расхожий миф о советском образовании, что оно было общедоступное и уже тем самым ценное, будто оно вытащило из тьмы и мрака всесторонне развитого человека (тоже отчасти мифическое понятие). Быть может, в свете ваших исследований можно взглянуть как-то иначе на историю в том числе и советского образования? В чем, на ваш взгляд, заключается главное отличие советской школы от дореволюционной?
— У меня есть книжка «Сумерки всеобУча». Я предпочитаю такое ударение, не всеОбуча, как обычно говорят. Собственно, это слово советской эпохи, когда не было авторитетного законодателя, который мог бы устанавливать орфоэпические правила, равным образом как и орфографические: закон рухнул, и каждый имеет право поступать как хочет. «История русской школы» была прагматической историей: там требовалось описать событийный ряд, и такие сравнения были неуместны. А «Сумерки» как раз являются неким аналитическим интеллектуальным продолжением этой «Истории» и применением ее материала к анализу более новых положений.
Что можно сказать относительно советской школы? Во-первых, она была подвержена общей советской беде — припискам. Школьная статистика в принципе дело тяжелое, но я как-то своим френдам-блогерам задал вопрос: когда Советский Союз полностью справился с неграмотностью? Мне аргументированно ответили: никогда. Перепись 1989 года показывала определенный — и не то что бы величиной со статическую погрешность — процент неграмотных людей. Понятно, что в 1989 году это уже были люди, которые неграмотны не потому, что была плоха школа Николая I или даже Николая II.
Многие думают, что советская школа — продолжение дореволюционной. На самом деле она является ее самым решительным отрицанием: принципы прямо противоположные. Дореволюционная школа выросла из потребностей разных групп и сословий. Она была многоукладная и представляла собой совокупность духовных, военных, технических — самых разных отраслей. Это была естественная школа. Советская школа — полностью единый идеологический конструкт. С этим связано и другое различие: очень пестрая и разнообразная дореволюционная школа (много типов) и унылое однообразие советской школы. Оно тоже неполное, поскольку идеологически, конечно, требуется однообразие, но жизнь диктует свои правила, и поэтому появилось некоторое количество языковых, математических школ: просто иначе некоторые практические отрасли в государстве функционировать не могут. Но для советской школы это нежеланная уступка, а для императорской — совершенно естественный подход. Это второй коренной разводящий их пункт. Третье различие: закрытость советской школы и открытость императорской. Что я под этим имею в виду? Советская школа в своей массе практически не давала нормального знания иностранного языка и потому замыкалась только на русской культуре, в то время как дореволюционная средняя школа пыталась языкам обучать, и чужое в ней было достаточно мощным компонентом. В этом смысле советская школа ближе к азиатскому типу, но там это вынужденная мера: попробуй все эти иероглифы выучи — ни на что чужое не остается ни времени, ни сил. А советская школа ориентировалась на добровольную культурную замкнутость. И наконец, четвертый пункт: советская школьная система не имела ядра и сердцевины императорской школы, а именно классической гимназии. То есть тип, который считался главным интеллектуальным мотором, главным приготовительным типом для университета, в Советском Союзе просто отсутствовал. Вообще, советское среднее образование сопоставимо с императорскими моделями не среднего уровня, а высшего начального, и я по этому поводу вполне аргументированно утверждаю, что в Советском Союзе среднего образования не было вовсе. По критериям императорской школы то, что называлось «средним», таковым не является — это программа высших начальных училищ.
— Расскажите немного о другом вашем проекте — продолжении перевода «Илиады», частично выполненного Ермилом Костровым александрийским стихом в XVIII веке. Что вас сподвигло довершить его дело?
— Это тоже был заказ, и опять-таки мне очень интересно было его выполнять. Вся моя научная жизнь до сих пор в моем изложении представлялась как ряд выполненных мной чужих инициатив, и я, собственно, ничего дурного в этом не вижу. Есть, правда, одна вещь, сделанная по моей инициативе: это подготовленное к печати издание «Россиады» Хераскова, которое тоже, надеюсь, выйдет в обозримой перспективе. Но, действительно, у этого проекта нашлись заказчики. Почему они обратились ко мне? Это другой вопрос, но на него тоже можно ответить. У меня были вполне конкретные требования к стихам и к стихотворным переводам, которыми я занимаюсь довольно давно, несколько удачных сочинил еще школьником. И, соответственно, есть определенное сопротивление материала. Могут быть одинаковой формы скульптура из пластилина, гипса и мрамора, но они будут производить различное впечатление в силу разной фактуры материала и того, что разный труд затрачен на обработку. Мне всегда казалось, что господствующий у нас принцип перевода размером подлинника, победивший в XIX веке (и как раз на гомеровском материале), — это пластилин, в лучшем случае гипс. Гекзаметры можно писать в любом количестве и левой ногой — никаких проблем. Тип перевода, который выбрали мои заказчики, Никита Игоревич и Федор Игоревич Наумовы (собственно, если бы они выбрали другой, они не обратились бы ко мне, да и я бы не согласился это делать): здесь сошлись их пожелания и мои известные им подходы. Античные стихи, переведенные нормальными русскими стихами, а не размером подлинника, в моих переводах уже публиковались — они знали, с кем имеют дело. Меня эта задача очень увлекла. Я весело над ней работал, и, надеюсь, это веселье отразилось в переводе.
— Сколько времени заняла работа?
— Полтора года. Это быстро.
— А что вы думаете о прозаических переводах Гомера?
— Я принимаю два вида перевода — либо перевод в прозе, добротным литературным языком и близкий к оригиналу, либо перевод в традиционных формах русского стиха (для меня развитие остановилось в середине XIX века: то, что было потом, я не приемлю). Возможно, была бы плодотворна комбинация обоих методов. Разумеется, я далек от мысли, будто перевод размером подлинника — занятие бесперспективное; на этом пути было достигнуто очень многое и было создано немало замечательных вещей. Кстати, самый плодовитый переводчик античной поэзии, А. А. Фет, совмещал два подхода: эпос переводил «размером подлинника», а лирику — обычными русскими стихами. Но он работал исключительно с латинской поэзией.
 Библиотека Алексея, среди книг которой всегда найдется место для котиковФото: предоставлено Алексеем Любжиным
Библиотека Алексея, среди книг которой всегда найдется место для котиковФото: предоставлено Алексеем Любжиным
Постоянное обращение к классическим текстам — прежде всего к Горацию и Гомеру — свидетельствует о здоровье культуры. Каждая эпоха старается увидеть в них что-то свое, отразить близкие и самые нужные грани. Этот классический стержень, кстати, необходим и для того, чтобы сохранялось какое-то единство и возможность обращения к собственному прошлому: язык XVIII века устарел, пушкинский устаревает, язык Гомера и Горация не устареет никогда. Переводами «Илиады» на родной язык занимались крупнейшие поэты — Александр Поуп в Англии, Леконт де Лилль во Франции. Костров, кстати, тоже в русской поэзии далеко не последняя фигура, сохрани мы умение читать оду.
— А почему именно Гомер и Гораций?
— С Гомером все понятно. Это исток, начало, альфа и так далее. Гораций — высшее достижение стихотворного совершенства, воплощение превосходства «как» над «что», делающее любого поэта, кто к нему стремится, автоматическим горацианцем. У нас пример аналогичного явления — Пушкин, который и создал непревзойденный перевод горацианской оды. Так что обилие попыток обращения к Горацию — достаточный и для европейской культуры необходимый признак стремления к поэтическому совершенству.
— Вы говорили о здоровье национальной культуры, которое проявляется, в частности, и в том, что на русском языке должны появляться все новые переводы древних. Здорова ли, с вашей точки зрения, современная русская культура?
— На этот вопрос я могу дать ответ как филолог и как читатель. В первом случае я скажу, что знание о современности вообще проблематично, время проведет отбор, тогда будет что-то понятно. Густая дымовая завеса не дает ничего разглядеть. От лица же читателя скажу, что она серьезно больна. Есть оговорки: эта оценка продиктована субъективностью вкуса и ограниченностью кругозора, она может быть высказана и высказывалась всегда (о «вонючей тине расейской словесности» писал один критик в то время, когда Пушкин погиб совсем недавно, а Лермонтову оставалось жить меньше месяца). Со всеми этими оговорками, однако, повторю: стародуму, человеку моих вкусов, русская культура представляется серьезно больной. Она утрачивает или уже утратила уважение к слову и чувство слова. Но и в этом отношении единственный достойный способ поведения — вести себя так, как если бы она была здорова. Делай что должно, и будь что будет.
— А если сформулировать в самом кратком виде ваши личные впечатления от Гомера — что скажете?
— Пестрота. Гомер последователен в своей непоследовательности. А еще — отсутствие терминологичности в отношении оружия (одно и то же копье в одном и том же эпизоде может быть названо несколькими разными словами) в сочетании с точным указанием действия: Гомер всегда отметит, поражен герой ударом врукопашную или броском.
— А есть ли у вас как у переводчика соседи и единомышленники?
— Ограничусь одним похвальным отзывом. В 2018 году в издательстве «Летний сад» вышел Гораций (книги од) в переводе Алексея Юрьевича Кокотова. Это полноценное продолжение старой традиции.
— И как хорошо вы чувствуете себя в качестве продолжателя традиции XVIII века?
— Надо отметить очень важное отличие. Для поэтов XVIII века александрийский стих был естественен, как дыхание. Для того чтобы работать с ним сейчас, нужно быть готовым со всей энергией плыть против течения. Это очень разные ситуации. Разумеется, этот перевод — заявка на то, чтобы у нас сейчас присутствовали некоторые вещи, например, поэтический рационализм XVIII в.
— Давайте немного поговорим про Университет Дмитрия Пожарского. Какие цели вы перед собой ставили, открывая магистерскую программу по классическому образованию? Можно ли сказать, что это реакция на кризис классического образования и вы с вашими коллегами решили попробовать как-то изменить сложившуюся ситуацию?
— Когда создавался университет, у него было две программы. Одна — МАСЭП (Междисциплинарный анализ социально-экономических процессов), очень серьезная новаторская программа, комбинирующая набор отраслей физики, математики и экономики, который, по версии основателей, должен был снабдить студентов интеллектуальным оружием, для того чтобы разбираться в сложных проблемах современности. Вторая — «История и культура античности» — была, напротив, достаточно консервативной.
 Алексей в музее палаццо Поджи в БолоньеФото: предоставлено Алексеем Любжиным
Алексей в музее палаццо Поджи в БолоньеФото: предоставлено Алексеем Любжиным
Это не столько кризис самой классической образованности, сколько кризис ее отсутствия. У нас довольно много людей, которым нужны древние языки, но они либо сами этого не понимают, либо понимают, но им фактически некуда обратиться, чтобы в нормальной академической обстановке этот недостаток восполнить. Это историки, оканчивающие провинциальные университеты, прежде всего историки-античники. Я, разумеется, слово «провинциальный» использую только в качестве географического термина, не вкладывая в него ни малейшей доли негатива. Хочу это подчеркнуть, потому что, понятное дело, студенты там не хуже других, они просто оказались в других условиях. И преподаватели тоже не хуже других, но они тоже оказались в других условиях и не могут опираться на такую интеллектуальную среду, которая существует в наших двух столицах. Это был первый набор, там такие люди присутствовали. Потом состав приходящих к нам людей несколько изменился: это действительно исследователи, которым нужны древние языки для избранных ими областей. И Университет Дмитрия Пожарского достаточно удобная институция для того, чтобы ими овладеть. Но у нас, конечно, есть и свои определенные амбиции: мы достраиваем образование за счет общеобразовательных курсов, прежде речь идет о двух: «Математика для гуманитариев» в исполнении Алексея Владимировича Савватеева и «История России» в исполнении Сергея Владимировича Волкова (в исполнении других людей эти курсы были бы совершенно иными). На наш взгляд, такое расширение кругозора полезно. Мы пытаемся выстраивать некоторое равновесие между историей и филологией: чуть меньше половины нашего учебного времени — это древние языки; древние вместе с новыми — чуть больше половины. Мы обучаем еще немецкому и французскому (считая английский личным делом каждого), с тем чтобы вооружить наших студентов лингвистическими инструментами как для чтения классических и более поздних текстов в оригинале, так и для чтения научной литературы на по крайней мере трех языках.
— Вы скептически относитесь ко многим новейшим веяниям, но при этом много лет ведете жж, а в прошлом году завели телеграм-канал Кофе съ кисой. Как вы уживаетесь с соцсетями?
— С трудом уживаюсь. Если считать успехом в соцсетях наличие стабильного и не сводящегося к двум-трем друзьям, знакомым и родственникам круга читателей, то мне что-то удалось в «Живом журнале» (я предпочитаю перевод «Живой дневник») и в «Телеграме», и совсем ничего не удалось в аналогах LJ, в «Фейсбуке» (в моем идиолекте он фигурирует как лицекнижие, и если кто из знакомых мигрирует туда, то я говорю, что он впал в грех лицекнижия) и «ВКонтакте». Из «Фейсбука» я сам бежал в панике, бросая знамена и артиллерию, поскольку почувствовал себя слишком открытым и незащищенным; я жалею только об одном сообществе с красивыми видами библиотек, до которых я великий охотник. То, что мне рассказывают о «Фейсбуке», свидетельствует, что я поступил правильно. Администрация «ВКонтакте» отказала мне в доступе к собственному дневнику по соображениям безопасности, если мне не изменяет память (давно это было), но, поскольку терять было особо нечего, я решил не вступать с ней в контакт и ничего не делать.
Над типом личного дневника в сетях я размышлял много и долго. Возможно, имеет смысл несколькими тезисами поделиться.
1. Мой «Живой дневник» — литературное произведение, причем в трудном и почти не используемом жанре менипповой сатиры, т. е. смеси стихов и прозы. Потому моя языковая небрежность, где она обнаруживается, — кажущаяся, целесообразная и продуманная.
2. Все, что вы скажете, может быть использовано против кого угодно. Потому подробности служебные и административные проходят строгую самоцензуру.
3. Прежде всего мои записи — интеллектуальный дневник. Туда, например, получают доступ филологические идеи, которые у меня нет возможности и времени разрабатывать (это, разумеется, самые масштабные и значимые из моих филологических идей).
4. Я использую в сети те же правила вежливости, что и вне ее, если уж решаю вступить в контакт (это бывает далеко не всегда), и не пытаюсь монетизировать свои блоги. Я никогда не использую ненормативной и вообще низкой лексики.
5. Я не спорю. Точнее, могу спорить по поводу подробностей с единомышленниками. Но если кто-то мне советует писать по-русски и напоминает, что старую орфографию отменили, я просто не обращаю на это никакого внимания.
6. Правила, которые здесь сформулированы, я считаю значимыми только для себя, и, если кто-то ведет себя иначе, это не значит, что я буду дурно к нему относиться. В том числе я никогда не перестану читать блог из-за того, что он содержит открытую рекламу.
— Расскажите, пожалуйста, о вашем библиофильстве. Что значит для вас коллекционирование книг?
— Прежде всего, очень острое и живое ощущение книжной трагедии. Книга имеет право на то, чтобы ее читали. Когда мне приходилось описывать, например, большое количество латинских диссертаций XVII–XVIII веков, было понятно, что в них никто никогда уже не заглянет: когда-то тут кипела жизнь, бурлили умственные страсти, а сейчас... Моя келья — приют для них, но, увы, временный, и любая коллекция доживает до наследника, которому она не интересна. Тогда лучший путь — в какое-нибудь государственное хранилище, где их будет описывать очередной Фильтриус, но эта перспектива не всегда внушает энтузиазм, как казенный дом для престарелых. Для человека лучше любящая семья, для книг — любящий владелец. Разумеется, страсть к книгам вполне иррациональна, но столь же иррациональны и все остальные; здоровое общество оставляет своим членам безумствовать каждому по-своему, лишь бы это не мешало жить посторонним. Разумеется, я со своими книгами думаю о смерти; но я точно так же думал бы о ней и если бы их не было.
— И что же вы собираете?
— Я в этой области такой же оболтус, как и в прочих, и нахожу свою тему — точнее, свои темы — ощупью. Мне может быть интересен человек, я становлюсь падок на то, что связано с его личностью, и делаю соответствующие покупки. Например, в моем собрании есть первые сборники трех умерших молодыми поэтов — голландца Лукаса Схермера, француза Андре Шенье и бельгийца Жака Перка. Все это посмертные книги. Это вдобавок то, что я читаю, — но, разумеется, с экрана или (как в случае с Шенье) по более новым изданиям, старых книг я для этих целей не трогаю. Люблю бессмысленные редкости — книги, не представляющие особого интереса своим содержанием, но которые чрезвычайно трудно найти. У меня есть одна латинская юридическая речь, опубликованная в Пуатье в XVII веке, ничем не замечательная, но отсутствующая в сводном каталоге французских библиотек.
Когда я в первый раз направлялся в Испанию, мне хотелось завести испанскую книгу XVII века. Я ее завел. Потом вкусы больше детализировались, и самая старая моя испанская книга — еще XVI века (правда, она на латинском языке). Люблю старые газеты и журналы, особенно «Меркурий». Еще одна страсть — сувениры из тех городов, где я бывал. Из Севильи я вывез медицинский отчет 1786 года, из Мурсии — регламент тамошней школы рисунка примерно того же времени. Самый роскошный сувенир — описание садов Боболи во Флоренции. Купил в отчаянии, поскольку тогдашняя попытка приобрести инкунабулу потерпела полный провал.
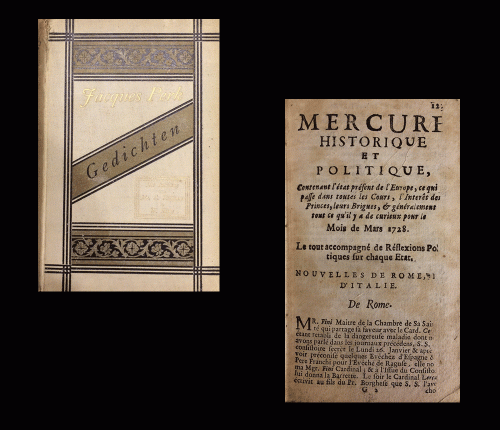 — Про инкунабулу расскажите, пожалуйста, поподробнее.
— Про инкунабулу расскажите, пожалуйста, поподробнее.
— Инкунабула находилась в Ареццо. Я попытался списаться с владельцем магазина по электронной почте, но он мне не ответил. То, что я нашел в интернете, давало почтовый адрес и странным образом с ним не совпадающее указание по карте. Я утренним поездом отправился туда, преодолел, обливаясь от жары и волнения потом, расстояние от вокзала до окраины города, но в обоих пунктах ничего, кроме частной застройки, не обнаружил. Многие торговцы abebooks, по-видимому, не содержат магазины, а распродают частные библиотеки; думаю, это и был тот случай. Я потом осмотрел сам город, и с большим удовольствием, но, вернувшись во Флоренцию, в качестве компенсации приобрел увраж XVIII века с полусотней гравюр.
— А вообще как вы связываете библиофильство и путешествия?
— Весьма тесно. Иногда, не доверяя почте, я планирую обычное путешествие так, чтобы оказаться в городе, где меня ждет важная книга. Таким образом было спланировано одно из путешествий по Италии: книга лежала в Турине (он меня поразил масштабом и качеством своей букинистической торговли), и в связи с этим были осмотрены города северо-запада Италии, где букинистических покупок не планировалось, — Генуя и Павия. Там был приобретен симпатичный экземпляр парижского издания Ф. Бероальдо «О наилучшем государстве» с так называемым макулатурным переплетом.
Был и такой случай: планировал поездку по северной Испании, в Бильбао лежала чрезвычайно важная книга — первое издание «Истории Испании» Хуана де Марьяны; но книготорговцы объявили значительную скидку, далеко превосходившую почтовые расходы, — она не продлилась бы до того времени, когда я смог бы выбраться в Бильбао. Север Испании был отложен, тем более что в столице Басконии есть еще Музей современного искусства Гуггенхейма, чьих вредоносных флюидов я весьма опасался. Но обычно я просто изучаю каталоги букинистических магазинов по маршруту и нахожу что-то интересное там. В последний раз в Касересе обнаружил латинский перевод фенелонова «Телемаха».
— Как вы полагаете, такое коллекционирование может служить некоторой инвестицией?
— Разве только в долгосрочном плане. Комиссионные при продаже старых книг на отечественных аукционах безмерно высоки — и с покупателя, и с продавца. Сам я никогда не пытался продать что-то из своей библиотеки, соответствующего опыта у меня нет. Букинистический рынок, как и вообще рынок искусства (да на самом деле и любой), чрезвычайно психологичен. Ну кому в России нужны мои старые испанские и голландские книжки? На большую прибыль может рассчитывать тот, кто угадает серьезные перемены популярности: прижизненный Пушкин всегда будет дорог, но и сейчас вы отдадите за него немало. Очень надеюсь, что утратит популярность и подешевеет футуристическая дрянь: не то чтобы мне хотелось скупить ее по дешевке — даром не нужна, но это было бы актом восстановления историко-литературной справедливости. Сильное движение было с ценами на поэтические книги начала XX века: сборник Федора Сологуба во времена моей студенческой молодости стоил стипендию, а лет пятнадцать назад, если мне память не изменяет, несколько долларов. Сейчас — не знаю. Но эта сфера за рамками моих коллекционных интересов. Еще книгу можно выгодно продать, если она позарез нужна какому-нибудь платежеспособному покупателю; но тут тоже столько обстоятельств должно сойтись... Так что, наверно, в общем и целом смотреть на старые книги как на инвестиционный инструмент не слишком правильно. Коллекционируйте исходя из собственных интересов — и будет вам счастье!
— Что вы читаете в свободное время для удовольствия?
— Свободного времени у меня не так много, и мне очень трудно отделить чтение для удовольствия от чтения для пользы. Практика показывает, что бесполезное сейчас может оказаться чрезвычайно плодотворным потом (прочтенные в оригинале большие эпосы Вергилия, Овидия, Лукана и Силия Италика очень пригодились при работе над Херасковым, чего ожидать я никак не мог). Обычно же я пытаюсь сочетать пользу с удовольствием: например, я прочел некоторое количество лирических стихотворений очень крупных поэтов Жака Перка и Виллема Клооса и несколько усовершенствовался в голландском. Кое-что из этого я перевел и выложил в «Живом дневнике». Ради тех же целей для испанского языка я прочел роман Хавьера Мариаса «Белое сердце» [дословно — «Столь белое сердце», цитата из «Макбета». — А. Л.], который неожиданно мне понравился. По-русски я в основном читаю социальные сети; иногда там попадаются и литературные произведения, но в принципе на родном языке меня привлекают мысли, и у меня мало надежд на слово.
— И, наконец, последний вопрос. Несколько слов о перспективах.
— Я бы его разделил на три. Можно говорить о перспективах образования как такового — ограничившись РФ. Оно обладает настолько мощной инерцией, что скорее движется по ее логике, а не по логике образовательных властей (они не располагают даже возможностями понять происходящее, поскольку не имеют нормальной образовательной инспекции). Логика же эта заключается в том, что советское образование разрушается; скорость его разрушения определяется экспонентой. Сейчас мы находимся в точке, когда это происходит настолько быстро, что видно невооруженным глазом. Но поделать с этим ничего нельзя: понимание происходящего отсутствует у всех трех игроков — государства, общества и педагогического корпуса (включая как высшую, так и в особенности среднюю школу). Для чего-то серьезного нет ресурсов.
Теперь можно сказать о перспективах небольших частных учебных заведений. Их как раз можно охарактеризовать с известной долей оптимизма. Государственная школа настолько далеко ушла ото всего, что можно было бы обозначить словом «образование», это стало настолько очевидно достаточно значительному числу людей, что те из них, кто озабочен образованием своих детей и по тем или иным причинам не может или не хочет отправить их за границу, будут искать частные учебные заведения, способные предложить внятную программу.
Что же касается собственных перспектив, то — со всеми мыслимыми оговорками о падающих на голову кирпичах, которых (и оговорок, и кирпичей) много, — я хотел бы заняться интеллектуальной историей России той же эпохи, для которой написал историю школы.
Для подготовки материала были использованы тексты двух автоинтервью Алексея Любжина — 2017 и 2018 годов.